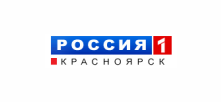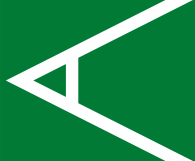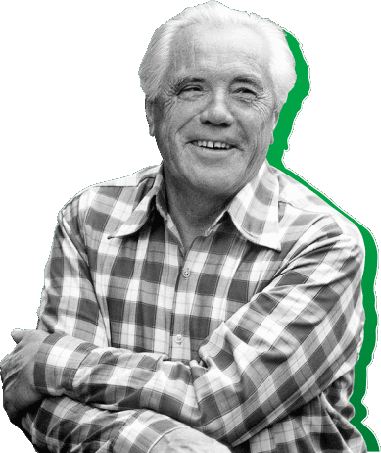
и не судья
— После Горького, пожалуй, только вы, Виктор Петрович, да Шукшин — из крестьянских ущемлённых семей, практически из низов, в труднейшее время «сделали себя» в литературе. Кроме таланта, творческой воли, верности себе, что и кто помог вам устоять?
— Горький долгое время был и остается моим кумиром. Хотя сейчас, в свете новых знаний о нём, в частности о его руководстве комиссией по изъятию церковных ценностей и других фактов, — отношусь к нему несколько по-иному.
Не будем забывать, что Шукшин окончил ВГИК — один из самых интеллектуально ёмких и блатных вузов страны…
— Но не будем забывать, Виктор Петрович, и как он туда поступал. И как презрительно к нему и его «серому» — в кирзовых сапогах — кругу относились элитные интеллектуалы. Вряд ли даже Охлопков и Ромм, зачисляя Шукшина в «кино-альма-матер», понимали масштаб будущего «выроста» Василия Макаровича.
— Возможно, и не знали, и понимали не до конца. Но у Шукшина был не только большой жизненный — битый и пёстрый — трудовой путь, армия. Он же директорствовал до ВГИКа в школе рабочей молодёжи…
Я же пришёл в газету с шестью классами и ФЗУ — после фронта, госпиталей, семейным, взрослым человеком.
Газетный жанр, а затем и радиоэфир оседлал довольно быстро и мог бы подвизаться в них успешно и долго. Сделал однажды очерк «Строитель» — бодрый такой, о человеке достойном, и пошёл этот очерк из газеты в эфир под симфонический аккомпанемент (Виктор Петрович шутливо напел популярный классический аккорд. — Е. С.), затем в журнал «Смена». А жили с семьёй… Бедно — не то слово, на хлеб детям не всегда было. А в ту пору трофейные фильмы шли косяком, и собрались мы с Машей, Марией Семёновной, в кино — на последний рубль. Возвращаемся из кино домой, жена в горести и отчаянии — что будем есть завтра? А я ёрничаю, отхожу шуточками: «Не горюй, Марья Семёновна, сейчас деньги будут. В ящике…» Подходим к дому, достаём из ящика газету, а из неё выпадает бумажка.
— Витя, да тут перевод (а в тамбуре хатёнки было темно)… Целых двадцать пять рублей!
Пригляделся одним глазом — действительно, перевод из «Смены», только и своему глазу не поверил:
— Обижаешь, жена, тут целых двести пятьдесят целковых!
Словом, накосил мне тот «Строитель» деньжонок из разных источников — детям обновы справили, вроде дух перевели…
Но это очень опасный путь — нелёгкие журналистские хлеба. Многие по нему пошедшие потеряли себя, спились, в хлам измельчали. Вообще-то в той литературе в то время выбор был небольшой. Не знаю — Бог, «судьба или подкова», по Михаилу Дудину, охранили меня от той дороги и вывели на свою… Какой инстинкт самосохранения дал ориентир? На уровне ирреального, инстинкт и ориентир, видимо, в словах поэта-фронтовика: «Лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой».
«Мы не врачи, мы — боль»
И конечно же — учёба. В детстве — просто чтение: Дефо, Марк Твен, русская классика. В начале пути, кроме Горького, моим идеалом и кумиром был Вячеслав Шишков, позже — Лесков. Из иностранцев — Стейнбек, Хименес, Харпер Ли, ирландец Уолтер Маккин, от рассказа которого высеклась искра моей «Царь-рыбы», потряс меня роман Трамбо «Джонни получил винтовку». Но я вовремя понял, что своё лицо, свой стиль, своя манера — это и есть писатель. И пошёл к самому себе. Высшие литературные курсы, что я прогрыз, прополз и одолел очно в Москве, дали немало — не зря та двухлетка приравнена была к высшему образованию. Учусь всю жизнь.
— В опровержение известного герценовского «Мы не врачи, мы — боль» — от вас в публицистике исходит жёсткая диагностика состояния общества, построже Фёдора Абрамова («Чем живём-кормимся?»). Вы разворошили кривозеркалье агрессивной экологической диверсионности, разгильдяйства, невежества, карьеризма и прочих «измов», гниения духа, не щадя ни общества в целом, ни его столпов, ни своих односельчан.
Как вы воспринимаете реакцию обратной связи и нередко — острые ответы в свой адрес? А после, остывая от боя, что испытываете?
— Очень не любят (да и нет их!) пророков в своём отечестве. И никакой я не пророк и не судья. Может быть, острее вижу, с большей болью принимаю на сердце весь наш раздрай и бардак. Срываюсь — не скрою. А как иначе относиться к своим односельчанам, если полдюжины здоровых жлобов терзают катер и рвут канаты, несколько дней выволакивая его из воды на берег, когда два-три финна не спеша, без пьяного мата, спокойно и споро делают эту работу за день-два? А протрелёванные тракторами русла наших таёжных ручьёв, по которым двадцать-тридцать лет ничего расти не будет? А хлысты, брошенные на полдороге? А как относиться к «пишущему» и его «роману», где мастерство и не ночевало, а амбиций с пробойной хваткой и ползучестью в литературу неплохо бы поубавить?.. Сколько шуму было вокруг моей ложно понятой «Ловли пескарей в Грузии»? А в «обратной связи» — и в лицо, и по телефону не раз грозили выбить последний глаз, на что и я за словом в карман не лез, когда чувствовал: не по праву командирская жесть в том голосе…
После, «остывая от боя», приходит горечь, выпадает осадок сожаления, как у всякого живого, нормального человека.
Как можно чувствовать себя в поле отчуждения? Конечно же, плохо, дискомфортно, порой скверно. Но тем ближе и дороже становятся душевно важные мне люди. И не всегда — литераторы. С друзьями, с актёрами мне и проще, и интересней. Сейчас, когда по нездоровью перестал выпивать, — и гостевое застолье поредело…
— Даже в осязаемо автобиографических ваших вещах, даже в пронзительном «Последнем поклоне» — каково соотношение реального личного опыта и творческого вымысла, сочинительства?
— Всякий писатель, и я тоже, по своей природе выдумщик, сочинитель. Ведь если вспомнить гоголевского городничего, да и нас, грешных, — «не привравши, никакая речь не говорится». Так что даже в «Последнем поклоне» я — это я; бабушка Катерина Петровна — реальная моя бабушка, и мама с папой, и, дед Павел, и бабушка из Сисима Мария Егоровна — все из моей реальной жизни, хотя как литературные персонажи в чём-то добавленные и доправленные. А уж семейство дяди Левонтия — это мой чистый вымысел, и, если они вышли у меня реальными людьми и повесть в целом состоялась — не зря, значит, бумагу мараем.
— «На войне сюжетов нет», и по жизни готовых сюжетов не густо. Ослабленность фабулы ваших вещей, «прохладное» отношение к сюжету — это сознательная творческая позиция?
— Сознательная или нет — я не знаю. Просто мне, лично мне, сюжет в его жёстком каноне не очень важен. Это не значит, что он не нужен, но они — сюжет и фабула — присутствуют, организуют материал у меня в той мере, в какой диктуют и моя природа, и свободная форма материала, и естественное течение жизни.
Наиболее, к примеру, сюжетный мой «Печальный детектив» — очень короткий (7 листов) роман — работался очень непросто. Я навалял уже листов четырнадцать, а вещь всё не выстраивалась, рассыпалась. Попробовал растащить написанное по рассказам — тоже не получается. И я его надолго забросил. Но как только возникло слово «роман» — материал сразу сюжетно организовался по природе детектива, и то не очень. Да и где, в самом деле, сюжет у Гоголя, к примеру, в «Тарасе Бульбе»?
«Что же, авторское лицо я вроде вижу, а вот задницы — увы…»
— Вы начали, Виктор Петрович, литературную работу в двадцать восемь и признаёте, что поздно. Нет ли противоречия в том, что к моменту тяги к чистому листу молодой человек должен обладать жизненным опытом, запасом впечатлений и ранней профессионализацией?
— И есть, и нет. Ведь писатель и живёт в своём мире, и создаёт его. Ну какой опыт мог быть у юного Лермонтова, когда он в семнадцать лет написал «Я не унижусь пред тобою…» и вскоре стал осваивать «Маскарад», формировать в космический масштаб своего «Демона»? Повторюсь, глубина и масштаб чувств его юношеской лирики — где здесь опыт взрослого мужчины? В молодом человеке, в замыслах его прозы ли, поэзии, если он действительно призван Богом в писатели, уже звучит симфонический строй, мелодический мир концерта Мендельсона или, скажем, пятой симфонии Чайковского. Надо только это разбудить, уловить, настроиться на реализацию.
С другой стороны, прочитав на своём веку немало всяких рукописей, говорю иногда молодому дарованию: «Что же, авторское лицо я вроде вижу, а вот задницы — увы…»
— Художник как бы изначально в оппозиции к власти, и не многим удаётся найти «золотое сечение» сосуществования с ней… Власть и вы долго были в отчуждении (но и не в ЯВНОМ противостоянии). Золотую звезду Героя труда вы восприняли спокойно или пришло ощущение достойного признания ваших достижений по жизни и по литературе «высшей властью»?
— Смею думать, как писатель я никогда не был ни в русле, ни на стрежне социалистического реализма в его жёсткой, зашоренной трактовке. Никогда не мучился над проблемой положительного героя, роли партии, «темой рабочего класса» и прочей идеологической дребеденью. Как там у Окуджавы — «каждый пишет, как он слышит, как он дышит»? А вот «не стараясь угодить» — далеко не каждый…
Но и диссидентом я не был. В иных обстоятельствах — как знать, но в своих, и по природе своего писательства, и по характеру просто НЕ МОГ им быть. Писал, как писалось, думалось, дышалось — и резко, и лирично, и «раздумчиво». Парадокс, что меня как-то сразу начали хвалить, а ругали хоть порой и жёстко, но подозрительно маловато.
За свои полвека в литературе мне приходилось общаться и с верховными, и пониже рангом жрецами власти, состоять в Верховном и президентском советах. На всех уровнях я говорил открыто и честно, что шло, как правило, не в струю — власть ждёт и хочет, чтоб «по шерсти». Поэтому, если и слушает — не слышит, и общение идёт формально, в «одну сторону»; и не носило оно той глубины и доверительности, какая была у меня, к примеру, с незабвенным Александром Николаевичем Макаровым, Вячеславом Кондратьевым и другими. Наиболее содержательные письма я даже включил в свой пятнадцатитомник.
Что касается звезды Героя, то на её вручении Михаил Сергеевич Горбачёв, приблизившись, сказал мне одному: «А ведь вам, Виктор Петрович, звезду эту надо было вручать лет двадцать назад».
— Что ж, ему, как президенту и читателю, виднее. Если учесть, что к тому времени у вас «по литературе» уже было четыре ордена…
— Что до высшей власти, то нередко, глядя на эти полки, думаешь: «Ну кто я такой, что сделал, когда в этом ряду ни Лесков Николай Семёнович, ни гениальный Гоголь, даже Пушкин до конца не прочитаны и не поняты?»
— Не говоря о Толстом и Достоевском?
— И о них — тоже. Так что право стоять пусть не в одном ряду на стеллаже, а где-нибудь сбоку — и это много…
— Уходит воевавшее поколение — цвет, боль и совесть нашего народа. И в литературе — ПОМИМО павших на этой войне Когана, Васильева, Кульчицкого — уже нет Симонова, Казакевича, Михаила Львова, Абрамова, Сергея Смирнова, Дудина, Сергея Орлова, Кондратьева, Окуджавы… Нет ли у вас ощущения, что вы, Бакланов, Бондарев, Быков держите в литературе последний рубеж, прикрывая отход своего поколения в вечность небытия?
— Гриша, Григорий Яковлевич Бакланов, был недавно у нас в Красноярске. Дружбой с Носовым, повторюсь, очень дорожу. А мой друг Василь Быков ныне эмигрант — уехал от Лукашенко в Финляндию, а затем — страшно сказать — в Германию. Горько всё это.
Что до последнего рубежа и прикрытия отхода своего поколения, что ж — в образном плане это звучит забористо. Но по прозаической сути, пожалуй, верно.
— Экранизации ваших прозаических вещей и вам, видимо, не принесли удовлетворения. Как вы думаете, астафьевская проза принципиально не ложится в драматургический ряд, его прокрустово ложе и зрительский строй или эту тайну пока не удалось вскрыть и разгадать режиссуре?
— Чёрт его знает! Ну ладно проза — там, по Достоевскому, есть некая тайна, по которой она не осваивается, не выстраивается драматургически. Я не отказывал и согласие давал, и подступались многие, и даже наснимали что-то, и телевизионный сериал выдали по ранним военным повестям. Но удач не видно. А ведь кто сегодня помнил бы о самой очерковой книге Фурманова, если бы не васильевский «Чапаев», если б не Борис Бабочкин?
Ну ладно — проза. Но сделали ведь мы с Женей Федоровским потрясающий — это без похвальбы — сценарий «Дважды рождённый». На красноярской сцене Леонид Белявский поставил по нему хороший спектакль «Не убий», а в кино режиссёр Сиренко сделал весьма серенький фильм. Даст бог, дождутся своего часа и режиссуры «Царь-рыба» и «Печальный детектив», что-нибудь ещё.
— Наверное, не мог не стать писателем… Оставшись живым на той войне, я должен был им стать! Но если уж мы с писательством по чуду бы и разошлись… стал бы, наверное, крестьянином.
— Вы, Виктор Петрович, один из самых издаваемых и читаемых писателей. У нас и в мире. Надо полагать, что материальные ваши проблемы это сполна решало. А как вам сейчас живётся и работается?
— Всегда в провинции (да и в столице) большинству писателей жилось тяжко, трудно. Сейчас ещё тяжелее, все где-то служат, чтобы свести концы с концами. Наверное, у нас только Бушков сейчас не бедствует. Я со своей домашней оравой долго был «в большинстве». Где-то к шестидесяти, с госпремией, и когда четырёхтомник вышел, да в «Роман-газете» прошло несколько вещей, да издательская волна подфартила — перевели дух. Тысяч двести пятьдесят — тех, советских, на книжке собралось, рублей по 500-600 в месяц на жизнь снимали, и думалось — до рокового часа безбедно хватит. И вот в одну ночь стараниями гайдаровского внука, как у многих, у вас на севере — особенно, все это рухнуло, если не сказать круче. Настроение, дух был мерзейший! Погоревали с Марией Семёновной. Потом засучил рукава, сел за стол, прижал зад. И жена — за машинку.
Только подняли голову — очередная подлянка, по имени дефолт — уже от Кириенко. Откуда кризис — малопонятно, а «кинули весь мир», «и откачка из карманов населения денежной массы» — это и вовсе блуд…
Сейчас на книжке вновь немного собрали — на чёрный день. Немного от изданий-переизданий капает плюс пенсия, огород в Овсянке. Как там у Твардовского —
Не нарвёмся, так прорвёмся,
Живы будем — не помрём…
— Шесть за одного — цена победы, горький баланс той войны. В какой мере вы ощущаете себя в литературе и по жизни тем юным военным полевым связистом, под обстрелом держащим сегодня связь между живыми и мёртвыми, тем и нашим временем и поколениями?
— Пожалуй, не шесть, а десять за одного по новейшему современному счёту… А в какой мере? Если прибегнуть к образу, к метафоре, то мы уже касались стихотворения фронтовика — светлая ему память — Михаила Дудина: «Не знаю что, судьба или подкова, хранит меня…» Думаю, что и молитва моей бабушки Катерины Петровны спасла, охранила меня на войне и после. И на связи между мной и «проклятыми и убитыми», нашим, выжившим, и тем, не дошедшим до Берлина, поколением — смею думать, что «они, как о победе донесенья, возможно, дожидаются меня».